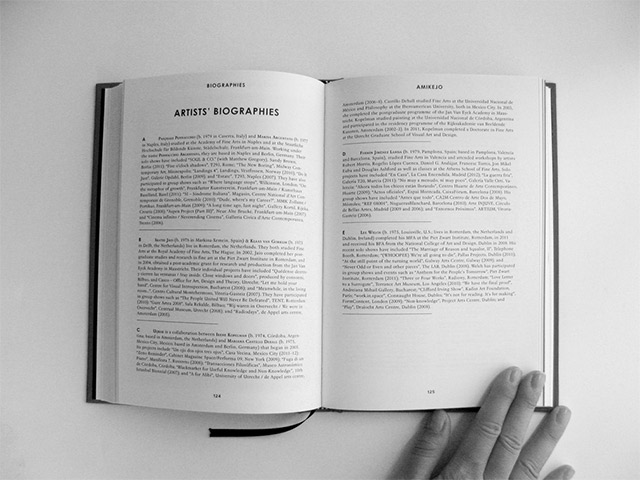Интервью Андрея Завадского с доцентом магистерской программы «Public History. Историческое знание в современном обществе» Московской высшей школы социальных и экономических наук Верой Дубиной.
От редакции: Вера Дубина несколько лет проработала в Институте истории им. Макса Планка в Геттингене, одном из бастионов исторической антропологии в Германии. В 2012 году вместе с профессором Оксфордского университета Андреем Зориным создала в Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинке) первую в России магистерскую программу по Public History и до недавнего времени ей руководила. Сейчас Вера Дубина продолжает преподавать в Шанинке, а также работает референтом по вопросам истории и гражданского общества московского представительства Фонда им. Фридриха Эберта.
— Биография как жанр существует давно и пользуется огромной популярностью, судя хотя бы по полкам книжных магазинов. А какое место она занимает в исторической науке: это «нелюбимое дитя» историков (Дэвид Насоу) или все-таки «чистейшая форма истории» (Стенли Уолперт) [1]?
— В конце XX века биографические исследования пережили настоящий ренессанс в гуманитарных науках, причем не только в истории — то же самое можно сказать, например, про литературоведение. Причина огромного интереса ученых к биографии определяется частично конъюнктурой книжного рынка: помните у Пушкина — «не продается вдохновенье, но можно рукопись продать»? Но это только часть правды.
Конечно, биография способна привлечь более широкий круг читателей, чем источниковедческая работа, посвященная, скажем, сравнительному описанию древнейших летописных сводов. Но необыкновенный интерес к биографии историков связан, на мой взгляд, в первую очередь, с новыми возможностями этого жанра, открывшимися благодаря антропологическому повороту в гуманитарных науках. Многие историки, и я в том числе, надеются при помощи биографических исследований ухватить индивидуальное в истории, человеческое ее измерение, ускользающее и растворяющееся в смене социальных формаций, эпох и парадигм.
Еще в 1980-е годы Альф Людтке, один из основателей истории повседневности, говорил, что та история, которая существует в академических кругах, происходит за спинами людей, совершается как будто бы без их на то воли и желания — сама по себе. Где же тогда остается человек? Он обратился к этой теме, прежде всего, в связи с изучением национал-социализма в Германии, показав, что для того, чтобы понять, как функционировала эта система, недостаточно изучать политические, экономические и социальные проблемы послевоенной Европы. Эта преступная система держалась не только на репрессивных государственных механизмах, но и на согласии и даже, например, на радостном принятии — глубоком презрении ко всему чужому, возможности отнять у соседа-еврея его магазин. В любом случае, она не существовала без согласия и участия на то людей, вплоть до самых простых, «обычных мужчин».
— «Обычных мужчин»?
— Так называлась книга американского историка Кристофера Браунинга о 101-м резервном полицейском батальоне, отвечавшем на территории оккупированной Польши за депортацию и уничтожение евреев. Браунинг показал, что это были не садисты или психически больные, а совершенно обычные мужчины среднего возраста из гамбургского рабочего класса, писавшие своим женам и детям нежные письма и вернувшиеся после войны к своей обычной и совершенно нормальной жизни. И эти самые обыкновенные, «нормальные» люди спокойно уничтожили более чем 83 000 евреев, несмотря на то что у них была возможность не участвовать в уничтожении евреев, если им это было неприятно. Из 500 человек в батальоне только 15 воспользовались этой возможностью [2].
Книга Браунинга подорвала самое простое объяснение преступлений против человечности в период нацизма, которому после войны следовала историография и согласно которому преступления нацизма были результатом террора группы садистов. Кроме того, она поставила важный вопрос — почему нормальные люди так легко превращаются в убийц? Это стало началом серьезной научной обработки проблемы соучастия в преступлениях — и подобные исследования невозможны без биографического подхода.
Еще важный теоретический момент: в истории речь всегда идет о людях и интеракциях между ними, и даже в экономической истории серьезные исследователи давно уже не исходят из концепции рационального человека, который строит свою жизнь на экономической выгоде. У Клиффорда Гирца, в его изучении петушиных боев на острове Бали, есть замечательный пассаж о том, как он был удивлен поведением автохтонных жителей, с риском для своей свободы (колониальные власти запрещали петушиные бои) участвовавших в этом действе, готовившихся к нему задолго и при всем при этом нередко делавших ставки на заранее проигрышных петухов [3]. Гирц был антропологом, а не экономическим историком, но его подход «насыщенного описания», как и другие антропологические подходы, оказал огромное влияние на все гуманитарные науки. Это принято называть антропологическим поворотом, благодаря которому историкам удалось вернуть человека в исторические исследования.
— Получается, что, с одной стороны, биография — это история индивида, а с другой — как считает, например, исследовательница биографического метода Габриэль Розенталь, «реконструируя индивидуальный случай, мы всегда стремимся делать обобщения» [4]. Как же это совместить?
— Именно поэтому современные историки — при всех своих надеждах на инновативный потенциал жанра — очень осторожны в применении биографических подходов. В послевоенный период биография превратилась в «невинный жанр», далекий от теоретической рефлексии и методологических нововведений [5]. Последний гвоздь в ее гроб забил Пьер Бурдье в своей известной статье «Биографическая иллюзия». В этой статье он определил место биографии как литературного жанра в сокровищнице-хранительнице, совершенно неспособной стать частью науки, потому как она рассказывает индивидуальную историю одного героя по заданной литературной канве [6]. Свою статью Бурдье начинает громкой фразой: «История жизни — это одно из тех понятий здравого смысла, которые незаконным путем проникли в научный мир» [7].
Действительно, вся история профессионализации науки просто кричит об обязанности исследователя дистанцироваться от единичного и частного и перейти к общему для того, чтобы считать себя ученым. Потому и биография рассматривалась как пройденный и завершенный этап развития исторической науки. Вроде того, как Карамзин получил место «последнего летописца» — последовавшие за ним историки писали, по идее, уже не летопись, а научную историю. По аналогии можно сказать, что с развитием социальных исследований и структурализма история перестала быть «жизнью замечательных людей» и превратилась в историю масс.
Но антропологический поворот, вернувший биографическим исследованиям научную легитимность, показал, что жизнь незамечательных, самых обыкновенных людей тоже может быть предметом серьезного исторического исследования и принести прирост знаний в историческую науку. Самый известный пример — «Сыр и черви» Карло Гинзбурга [8], история обыкновенного мельника Миннокио, создавшего свою собственную космологию. Это была первая ласточка — и утверждение подобного антропологического подхода можно отнести к концу 1980-х — началу 1990-х годов.
Один мой американский коллега в конце 1990-х годов обнаружил в архиве в России записные книжки золотаря, жившего в XVIII веке, читавшего романы и ведшего свои счета вперемешку с выписками из гуманистической литературы. Кому бы из историков пришла мысль искать такой источник в период господства структурной истории? Да и до сих пор большинство не предполагает в городских слоях «отсталой» России XVIII века не только интереса к гуманистической литературе, но и даже умения читать.
Так что — если кратко подытожить — историки получили благодаря антропологическому повороту в конце XX века методологический инструментарий для написания биографии как научного исследования, а не как романа или поучительных историй Плутарха. У них появилась надежда ухватить индивидуальное, человеческое в истории. Для меня, например, это как раз самое интересное — именно поэтому я и стала историком.
— Означает ли это, что, в отличие, например, от «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха, герои которых — особенные, известные люди, примеры для подражания, — объектом современной биографии является обычный человек?
— И да, и нет. Ничего не мешает нам выбрать для биографического исследования человека известного. Главное, чтобы его известность не была единственной и главной темой писания биографии. Продолжатели традиции Плутарха есть и сейчас — например, авторы многих работ серии ЖЗЛ. Несмотря на то что публиковаться в этой серии и для современного историка совсем не зазорно, любой такой вид популяризаторства рассматривается как отдельное занятие, не имеющее прямого касательства к развитию исторической науки.
Решающий фактор научного текста — это правильная постановка вопроса. Задача историка — не просто описать жизнь одного человека, собрав все источники, которые найдутся, от рождения до смерти — родился, женился, трудился. Как писал Ханс Медик в статье «Миссионеры в весельной лодке» [9], превратившейся в «манифест» исторической антропологии, историк должен вести себя, как антрополог, который прибывает на неизвестный берег в весельной лодке. Не зная ни языка, ни жизни этого нового народа, он все открывает для себя заново. В случае историка — это историческая эпоха и исторический источник.
Ученый не имеет права конструировать заранее, что к чему приведет, после чего все факты легко укладываются в созданную схему. Результат такой схематизации — описательная биография «великого человека»: история о том, как конкретный персонаж достиг величия. Получается такая история в стиле фильма «Джейн Остин» (Becoming Jane, 2007) с Энн Хэтэуэй: повествование о том, как Остин стала знаменитой писательницей, какой мы ее знаем сегодня. Это вполне оправданно для художественного фильма, но не для научного текста. Потому как тогда все остальное в этой биографии играет служебную роль — некая предыстория о том, как этот человек стал великим.
— Эта новая научная биография — литературный продукт или все-таки больше исторический?
— Если говорить в широких дефинициях, то, в принципе, любой текст есть литературный продукт. Кроме того, историки очень многим обязаны литературоведам, особенно в России. В период позднего социализма инновативные культурно-исторические подходы развивались, прежде всего, исследователями с филологическим бэкграундом — можно назвать многих, но достаточно будет уже одного Юрия Лотмана. По-прежнему самые интересные работы рождаются на стыке разных дисциплин, потому как нет ничего более опасного для научного исследования, как «пристраститься / К давно налаженному обиходу» [10] и закостенеть в рамках своих цеховых правил.
Но мне кажется, ваш вопрос подразумевает необходимость отделить fiction от науки. Лично я не вижу никакой проблемы в том, чтобы историческая биография могла быть прочитана как литературный текст или чтобы она была написана, как красочный и увлекательный рассказ. Я уверена, что эти литературные достоинства вполне совместимы с исторической критикой источника, и совершенно не нужно искусственно утяжелять язык разными туманностями, чтобы книга могла претендовать на научность.
Однако тут таятся и многие опасности: можно чересчур увлечься красотами или собственной линией рассказа. Пример тому — скандальная история с книгой Орландо Файджеса «Частная жизнь в сталинской России» [11]. Ради своего повествования и красивой концепции, а может и просто ради красного словца (его книги отличаются прекрасным стилем) Файджес переиначил смысл устных интервью, даже дописал что-то от себя. Это уже за пределами того, на что имеет право историк. Несмотря ни на какую историю и логику повествования уважение к источнику и его критическая интерпретация остается необходимой составляющей любого исторического исследования.
— Есть ли в современной научной биографии место морали?
— В смысле «мораль сей басни такова» морали в исторических исследованиях делать нечего. Для читателя мораль всегда важна, но научная биография не ставит перед собой цели сформулировать моральный урок. Мы не судим тех, о ком пишем, — это же не судебный процесс. Наоборот, мы стремимся показать, как функционировал другой мир, на чем он основывался. Все развитие гуманитарной науки в XX веке говорит о том, что самое главное происходит где-то между строк и никогда не эксплицируется. В документах личного характера (дневниках, письмах, мемуарах) нет того, что их авторы считали само собой разумеющимся. А ведь то, что не написано, представляет наибольший интерес.
— В автобиографии человек сам структурирует и описывает свой жизненный опыт, а в биографии это делает за него другой человек. Причем часто этот человек живет в совсем другую эпоху, нежели объект его биографических усилий (то есть у биографа нет возможности пообщаться с объектом своего исследования). В чем сложность биографии как репрезентации индивидуального опыта другого человека?
— Если биограф работает с методами устной истории, то он может, конечно, пообщаться с теми, про кого пишет. В моем случае это невозможно, потому как я занимаюсь, в основном, XIX веком. Биографическое исследование, подразумевающее работу с документами личного характера, учит нас аккуратно обращаться с источником, внимательно смотреть, что за ним стоит. В качестве примера можно привести биографию Константина Победоносцева, написанную именитым американским историком Робертом Бернсом в 1960-е годы [12].
Победоносцев всю жизнь вел дневник, но большая часть его записей была утрачена: ЧК конфисковала их у его жены в надежде найти в тексте указание на «спрятанное» царское золото. Куда дневники исчезли после этого, неизвестно: вполне возможно, что в связи с нехваткой отопления их сожгли в какой-нибудь печке. Что Победоносцев сделал с детскими дневниками, непонятно, — наверное, уничтожил. Но перед этим напечатал небольшим тиражом, что-то вроде ста экземпляров, которые раздал только друзьям. Сейчас эту публикацию можно найти в библиотеках. Бернс прочитал этот детский дневник и сделал вывод, что Победоносцев был человеком холодным, бесчеловечным, потому что в его детском дневнике есть много записей про отношения с товарищами, а про смерть отца, бывшего для него ключевой фигурой, ничего нет. Такой подход к биографиям — типичный пример старой школы.
Есть масса указаний в других личных документах Победоносцева, что он крайне заботился об охране своей частной жизни и прилагал много усилий для того, чтобы его личные переживания не попадали в общественное пространство. Это можно понять по его письмам жене и другим текстам (а человек он был очень писучий). Почему Бернс сделал вывод о холодности Победоносцева? Потому что есть такая стигма, что Победоносцев был расчетливым политиком, который практически руководил царем, — «Победоносцев над Россией простер совиные крыла», если цитировать Блока. Бернс следует этому тропу, потому как пишет не о человеке, а о сконструированном образе политика. Он отдается стереотипу, даже не задумавшись о том, что переживания по поводу смерти отца могли быть удалены Победоносцевым при подготовке дневника к публикации.
— Но как выявить в личных документах что-то ценное?
— Для этого нужен инструментарий, и этот инструментарий все время разрабатывается. Авторы биографий исходят из имеющихся источников, поэтому стараются найти для исследования объект, о котором сохранилось достаточно информации или чей биографический опыт оказал на него непосредственное влияние — и это можно как-то обосновать. Один историк (не буду тут его называть, потому как он очень известен) развелся с женой и влюбился в жену своего коллеги, в результате чего два знаменитых историка между собой поссорились — и научное направление, над которым они вместе работали, перестало развиваться. Конечно, сказать наверняка, что это произошло именно из-за ссоры двух историков, нельзя, но в любом случае эту историю нельзя упускать из виду при изучении развития данного научного направления. Дальше историк должен изучать источник и по крупинке собирать имеющуюся в нем информацию, ничего не выдумывая, — об этом я уже говорила.
В отношении мемуаров, где период воспоминания отделен от описанных событий годами и иногда даже десятилетиями, тоже требуется свой инструментарий и подход. Например, если человек систематически врет — как Надежда Дурова, чьи замечательные «Записки кавалерист-девицы» полностью сконструированы, и проверить это несложно — это не значит, что его мемуары не нужно изучать [13]. Зачем и как человек придумывает свою биографию — это тоже важно. Вот поэтому мы, историки, благодарны семиотикам и в целом лингвистам, научившим нас работать с текстами. Ну и, разумеется, надо помнить про дистанцию с объектом своего исследования, которую историку надо стараться сохранять. Я уверена, что это невозможно, но пытаться все равно надо. Вижу, что у меня получается уже проповедь — «Господи, смотри не на наши грехи, а на наши попытки их не совершать». Но это действительно важно.
— В какие исторические периоды интерес к биографиям растет, а в какие — падает? Можно ли в данном случае сделать какое-то обобщение?
— Интерес к биографиям есть всегда, но в определенные исторические моменты они пользуются особенной популярностью. У нас сейчас такое время, как мне кажется. Возможно, это связано с переломными, сложными эпохами. Если говорить о времени Стефана Цвейга, который в начале прошлого века был самым знаменитым автором биографий, то это был fin de siиcle, Первая мировая война и так далее. В такие эпохи, как наблюдают социологи, люди уходят в личное, углубляются в семью в попытке найти стабильность. Неудивительно желание человека спрятать голову от всего, что происходит вокруг. Например, популярность у немцев нудистских пляжей достигла пика в эпоху ГДР: зажатые эмоции всегда ищут выхода. Сейчас это утверждение принадлежит к всеобщему знанию. К тому же, после сложных времен остается больше дневников: люди больше пишут, обрабатывают свой опыт. Особенно много дневников в период войн: дневник Анны Франк или Лены Мухиной — это попытка справиться с чудовищной повседневностью. Даже советские офицеры писали дневники во время Второй мировой войны, хотя это было запрещено командованием и офицеры могли понести серьезное наказание.
— Ориентируетесь ли вы в своей работе на биографии, написанные коллегами? Какие работы вам кажутся самыми удачными с научной точки зрения?
— Кроме уже упомянутой мной работы Карло Гинзбурга «Сыр и черви», к обязательной классике жанра новой биографии относится хрестоматийная работа Натали Земон-Дэвис «Возвращение Мартина Герра», переведенная и на русский язык [14]. Это увлекательная, практически детективная история, которую можно читать как роман, несмотря на то что это сочинение высокого научного класса. Эти две книги — примеры микроисторических исследований, когда через «исторический микроскоп», на примере мира, окружавшего одного человека, мы можем посмотреть на удаленную от нас эпоху. Здесь равно присутствует и человеческое измерение истории, и связь с социальным контекстом. В обеих работах виртуозно применен научный инструментарий новой биографии: «Повышение ценности отдельного феномена по отношению к системе, при котором детали занимают центральное место в теории познания» [15].
Эталоном новой биографической истории считается и работа Жака ле Гоффа о Людовике Святом. Это пример «глобальной биографии», конструирующей эпоху. Ле Гофф не только использовал и показал переплетения огромного количества исторического материла (любому, кто пишет исследовательские тексты, хорошо известно, как трудно удержать единую нить в таком разнообразном море источников), но и вышел далеко за хронологические рамки жизни короля Людовика [16]. Эта книга — образец, к которому нужно стремиться.
Беседовал Андрей Завадский
Примечания
1. Цит. по: Дунаева Ю.В. Историческая биография: упадок или возрождение? (Аналитический обзор) / Историческая биография: современные подходы и методы исследования. ИНИОН РАН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. М., 2011. С. 10, 11.
2. Browning C. Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland. N.Y.: Harper Collins, 1992.
3. Гирц К. Интерпретация культур. М.: РОССПЭН, 2004.
4. Rosenthal G. Biographical Research // C. Sale, G. Gobo, J.F. Gubrium, D. Silverman (eds.). Qualitative Research Practice. : Sage, 2004. P. 62.
5. Bцdeker H.E. Annдrungen an den gegenwдrtigen Forschungs- und Diskussionsstand // Hans Erich Bцdeker (Hg). Biographie schreiben (Gцttinger Gesprдche zur Geschichtswissenschaft, Bd. 18). Gцttingen, 2003. S. 9–63. Здесь S. 14.
6. Bourdieu P. L’illusion de la biographique // Actes de la recherches en sciences sociales 62/63. 1986. P. 69–72. Русский перевод см.: Бурдье П. Биографическая иллюзия // Интер. 2002. № 1. С. 75–81.
7. Бурдье П. Биографическая иллюзия. С. 75.
8. Гинзбург К. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. М.: РОССПЭН. (Первая публикация оригинала — в 1976 году.)
9. Medik H. Missionaries in the Row Boat? Ethnological Ways of Knowing as a Challenge to Social History // Comparative Studies in Society and History. Jan., 1987. Vol. 29. No. 1. P. 76–98.
10. Гессе Г. Ступени.
11. Figes O. The Whisperers: Private Life in Stalin’s Russia. Подробнее об этой истории см.: Орландо Файджес и Сталинские жертвы. URL: http://www.thenation.com/article/168028/orlando-figes-and-stalins-victims (Последнее обращение: 20.12.2014).
12. Byrnes R.F. His Life and Thought. Bloomington: Indiana Univ. Press, 1968.
13. Дурова Н. Записки кавалерист-девицы Надежды Дуровой. М., 2011.
14. Земон-Дэвис Н. Возвращение Мартина Герра. М., 1990.
15. Bödeker H.E. S. 18.
16. Жак Ле Гофф. Людовик IX Святой. М., 2001.